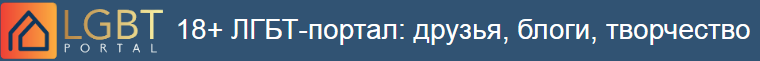Ещё до того, как я осознал роль денег, уже умел доставать их из глубоких родительских карманов и бережно прятать в старой сумочке. И монетки, и обряд добычи, и сам факт владения ими, наполненный калейдоскопом ощущений от азарта до страха, радовал чрезвычайно.
Иногда, когда взрослых не было дома, я доставал красную женскую сумочку, вываливал всё добро на диван, и медленно медленно пересчитывал. Строил столбики из монет, катал по столу, разбрасывал по комнате, а после собирал и прятал.
Вероятно нашлись бы «высокоморальные» люди, которые застыдили бы меня. Но людям свойственно путать стыд и смущение. Стыд и сожаление. Стыд и недовольство. Знаете, когда вы что-то ломаете ненароком, когда вы что-то портите, обижаете кого-то. Может быть неумышленно. Вам кажется, что это — стыд. Им кажется, что это — стыд. Всем кажется, что это — стыд. Но это вовсе не стыд....
Когда мы ещё жили с отцом (хотя этого и не помню), день рождения справляли вместе с соседом, по имени Димон. Он был старше меня на два дня. Жил на той же лестничной клетке, на третьем этаже — дверь напротив. Общего у нас ни много не мало: адрес, месяц рождения, ну а после, когда ушёл папа, одна беда под названием: семейные обстоятельства.
Конечно мы играли и веселились вместе. Пошли в одну школу, в один класс. Димону удавалось попадать в неприятные ситуации; мне нравилось наблюдать за этими ситуациями. Старшие называли его проблемным ребёнком; а меня обзывали младшие. Не то, чтобы я жаловался. Я был наверное на своём месте.
Помимо прочих качеств, Димон умел доставать «классные» вещи. И вот как-то у него оказалась железная цепочка (с крупными кольцами), которую вешают на дверной замок. А мне очень нравились всякие цепочки. Я буквально млел от мысли, что смогу владеть ею, как неким невообразимо дорогим скарбом, полным секретной магии, той магией, что покидает нас, вслед за детством.
Моё желание оказалось настолько заметным, что до того как я подумал, Димон первый предложил мне обмен сокровища на пять задач по математике. Я ответил, что деда запрещает, но он перебил: «Ты же никому не скажешь?». А и вправду, «я же ни кому не скажу» —, подумалось мне, и руки потянулись вперёд.
Когда я вернулся домой, мама спросила:
— Что это у тебя?
— Нашёл, — беззастенчиво соврал я.
И вот после того, как долгожданное приобретение лежало в сумочке с монетами, уже после того, как прошло время первого восторга и триумфа завоевателя, ко мне подкралось странное неприятное ощущение. Словно еле заметная дымка, дрожащая от лёгкого сомнения. Потом больше и больше, пока я не распознал чувство стыда. И вовсе не того стыда, как смущение или сожаление, а тот самый стыд, что запоминается на всю жизнь.
* * *
Чем дальше взрослели мы, тем больше новых желаний, возможностей и интересов открывалось. Тем отчетливее вырисовывались границы между нами, ещё детьми, но уже непохожими друг на друга, искавшими свои собственные места в новых кучках и бандах. Старые отношения ломались, теряли смысл, приходили новые: словно люди растворялись с той же скоростью, как бежали вверх карандашные засечки, отмечающие рост.
К пятому классу меня окончательно записали в группу «заучек», на что я совершенно не обижался, но изгоем становится не спешил, продолжая общаться с Димоном, что давало мне с одной стороны «иммунитет» против хулиганов, а с другой стороны сглаживало общее мнение в «положительную» сторону. Учёба всё ещё была весёлой игрой, хотя уже и тогда просматривалась скукота и бессмысленность бытия.
Димон медленно, но верно сдвинулся в сторону неудов. Уже не было большим секретом, что я частенько делал ему домашние задания, и позволял списывать.
— Скажи, разве ты ненавидишь своего товарища? — спросил у меня деда.
Я удивился:
— Почему ненавижу?
Дед присел рядом со мной, листая мой школьный дневник:
— Ты ведь уже взрослый.
Я удивлённо раскрыл глаза: первый раз меня кто-то назвал «взрослым».
— Ты видишь, что у Димы с мамой не всё хорошо?
Конечно я знал, что она била его, иногда вела себя «странно», и пусть я не был способен понять причин поведения, я вполне осознавал насколько это отвратительно.
— Она не может помочь ему с математикой.
Я кивнул.
— И с физикой тоже не может помочь.
Дед посмотрел на меня вопросительным взглядом:
— Тебе ведь неприятно, когда уроки не получаются, правда?
Мне показалось, он ждал моего ответа:
— Деда, я понимаю, что когда делаю за него задания, он не будет знать.
— Это не важно.
Я посмотрел ему в глаза.
— Хуже будет, если он перестанет верить в собственную способность изучать.
Он немного помолчал, пытаясь найти слова:
— Способность становится человеком.
Я поводил глазами по потолку:
— Ну у него круто получаются другие штуки, — сказал я.
— У тебя тоже получаются некоторые штуки, — улыбнулся деда. — А некоторые получаются неважно. Но ведь получаются? И если ты не умеешь плавать, всё равно надеешься, что научишься после.
* * *
Наверное никому никогда не хочется выглядеть «дурно». Врать, искать расположения, пресмыкаться. Мне было безразлично положение дел соседа. Я вовсе не желал никому помогать, и разделять непонятные для меня проблемы с «чужим» человеком. Возможно.... может... когда-то давно нас называли друзьями, но дружба основанная на пространственном расположении квартир не могла стать настоящей, а отношения созданные из вежливости или страха не могут перерасти в уважение. И всё же... что-то глубоко в душе беспокоило сознание. В конце концов я стал избегать не только субъект, но и любые объекты связанные с ним. Даже любимую цепочку забросил за шифонер.
К моему удивлению, действия не привели ни к каким последствиям. Про меня словно забыли. Словно меня самого никогда не существовало.
Прошло жаркое лето. Словно в тумане, закрытое от памяти, оно проскользнуло словно один день. В августе мы похоронили деда. А когда туман рассеялся, я вдруг осознал, что остался один.
Очнулся первого сентября. В новом учебном году появился иностранный язык, и класс разделили на две группы: одна по английскому, другая по французскому. Французский вела молодая учительница в длинном узком кабинете, в котором умещались всего два ряда парт. Если в обычном классе, мы сидели на «своих» местах, то в классе иностранного языка, каждый садился иначе. Последние две парты были особыми и предназначались для неуспевающих. За что, в последствии, получили занятное прозвище: «На окраинах Парижа».
Учительница французского — знала своё дело. Ироничная, остроумная, с хорошей внешностью она подарила новую опору в жизни. Мне не особенно нравились языки, но в том, чтобы идеально отточить её предмет был профит. В то время как мои одноклассники «бэкали», «мекали» и млели под взглядом превосходства преподавателя, я мог блистать. Но истинное удовольствие таилось в созерцании её власти, власти её положения. В каждой улыбке, в каждой шутке, ловились капли блаженства с привкусом одичалого удовольствия. Особенно яркие эмоции били в голову, когда она называла жителей «окраин Парижа» сакральным словом: «копейка». И кто бы удивился, что в нашем классе этой самой «копейкой» оказался мой сосед Димон.
Нет! Внешне моё лицо оказывалось беспристрастным. Было бы глупо демонстрировать удовольствие остальным. Иногда я оглядывался назад, чтобы посмотреть на его зловещее молчание. Димон, который порой не гнушался бросить в учителя бумажным катышком, дерзить, или демонстрировать норов, не видел способа справится с новой напастью, что била в самое слабое место.
Дети жестоки. Но жестокость — их ответ беспомощности. Они всё ещё плохо умеют любить, и плохо умеют ценить себя. Я видел моего соседа разным. В одном мире он защищал меньших, в другом унижал слабых. Его боялись и восхищались. Я тоже боялся его, но без аплодисментов, меня окутывала тихая еле заметная ненависть, вызванная желанием иметь ту силу, которую имел он.
Но с каждым днём, во мне всё больше проявлялось новое желание: «помочь», которое останавливал стыд и холодный клинок последствий. Я уже начинал фантазировать, как смогу вытащить своего соседа из бездонной пропасти беспомощности, но жутко боялся проблем в школе. Я не готов был терять единственное, что у меня было: репутацию. Но мысль об абсолютном могуществе, которое я ощутил бы, если бы пошёл против всего — прельщала меня. Ох как это было сладко, до невозможности, знать и ощущать собственную способность пойти всем наперекор, сделать что-нибудь абсолютно правильное, справедливое. Нет, я уже не был ребёнком, и не верил в справедливость, но нежные мечты всё ещё дарили ласки.
И вот однажды, когда наша «француженка» поймала «копейку» в очередной капкан, а я с наслаждением слушал её искусные тирады, полные жеманности и сарказма, вместе с ошеломлённой весёлостью моя память-предательница выдала мне кадр недельной давности. Это было кажется в субботу, когда мать Димона снова поливала цветы на проезжей части. Двое представителей охраны правопорядка пытались провести её домой, когда вдруг здоровая, в полном расцвете сил женщина, резко развернувшись лицом к удивлённым мужчинам, подошла к чугунной старой лавочке, и со злости одной рукой вырвала её словно нежную ромашку. Из окон повылазили головы зевак. Никто более не посмел подойти к ней. А из окна квартиры моего соседа виднелось знакомое жутко-бледное и страшное лицо её сына. Какое же это было страшное лицо. Наполненное гневом и страхом, жалостью и негодованием. Его вид ужалил меня, и я поспешил отвернутся.
Внезапно что-то подхватило мои ноги, взяло меня словно безвольную куклу, и в присутствии всего класса и учительницы заставило встать из парты и пройти к выходу. «Француженка» открыла рот, и в оцепенении проводила меня, пока я медленно, словно неся тяжёлую ношу, пересел за последнюю парту рядом с Димоном. Я пытался не смотреть на него, и не смотреть в глаза никому. Учительница едко улыбнулась, но слов не последовало.
Так вот что значит свобода. Это не отсутствие оков, тюрем или бескрайнее поле. Это когда желания переходят в действия, а реальность выглядит именно такой, какой ты пожелал её увидеть. Когда тёплое ощущение мира заполняет всё вокруг, и наступает мир самим с собой, и мир других с тобою. Наступившая феерия позволила отсрочить страх перед последствиями. Домой я пришёл один, и усевшись за обед, усиленно обдумывал своё новое положение.
Опасностей было две. Я совершенно точно мог попасть в опалу к учительнице, и внутреннее чувство подсказывало мне, что реакция Димона будет скорее отрицательной, хотя и не понимал: «Почему?». Но бездействовать сейчас означало проблемы, без получения выгод взамен. И я решился.
Как только наступил вечер, надев тапочки, я постучал в дверь напротив. Открыла его мать, с вежливой улыбкой поздоровалась со мной, и крикнула в глубь квартиры:
— Эй, подними свой пентюх, и проводи друга!
Мы прошли внутрь сквозь бардак и неурядицу в самую крайнюю комнатушку, которая играла роль «детской». Димон закрыл за собой дверь, когда я оставался стоять посреди комнаты, не имеющий воли ни сесть, ни сказать хоть пол слова. Я ждал.
Я не знал, как должен был действовать, потому что не понимал, что происходило в голове у моего соседа. Он был зол? На меня? На окружающих? На жизнь вообще? Как я мог начать разговор? Оказалось, что совершить нахальный поступок на уроке французского было куда проще, чем прийти сюда. Чего боялся? Физической расправы? Немного, но не теперь. Больше всего я боялся, что мои действия приведут к чему-то ужасному и непоправимому. Почему я так считал? Не знаю, но я ощущал что-то зловещее. Что-то настолько жуткое, что мой мозг отказывался осознавать.
Димон долго смотрел на меня «сверху вниз», а после длительного молчания подошёл вплотную и прошептал так, чтобы его слова мог расслышать лишь я:
— Круто считать себя самым умненьким? А мне приятно, когда вы скулите, как собаки...
Я подумал, что сейчас он ударит меня каким-то неожиданным образом, и прижал руки к телу. Но ничего не последовало, и это было намного хуже, если бы он ударил. Неизвестность. Я пытался что-то сказать, но зубы не разжимались. По телу пробежал холодный озноб.
— Ты зачем пришёл? — Прошептал он.
Вместо ответа я лишь резко выдохнул так, словно отчаянно выбрался из тёмного омута в попытке взять свежего воздуха. Я осознал, что не продержусь долго, и чем скорее начну что-то делать, тем быстрее выберусь. Как вообще он догадался о том, что я получал удовольствия от унижений? Я не показывал вида, всегда вёл себя скромно. И потом разве мне самому казалось приемлемым такое удовольствие? Это было приятным, не спорю, но тот человек, которым я становился — был глубоко отвратительным.
Может быть следовало извиниться? Кажется, так делают некоторые люди. Но извинения имели вкус слабости, а выглядеть ничтожеством стыдно. Однако примирение казалось необходимым, по крайней мере, хотя бы примирение самим с собой.
Очень тихо, бледнея от стыда, я прошептал некрасивое слово, и когда Димон с угрозой переспросил меня, что имелось ввиду, я поднял правую руку, большим пальцем тыча себе в грудь, повторил ругательство ещё раз. Мне стало легче. Снова запах далёкой бушующей свободы послышался вдалеке. Я расслабился, и меня понесло, словно большое неуклюжее бревно с грохотом покатилось вниз. Много было сказано, разного и глупого, и ненужного, от чего Димон опешил, отстранился от меня на комфортную дистанцию, и несколько испуганно глазел.
Если бы мой разум был вне моего тела, он наверное бы также испугался, и внимательно слушал странное признание. Сложно поверить, но мои губы произносили в слух такое, и таким образом, чего никогда не было даже в мыслях. Я говорил о том, как меня бесит учительница французского, как я ненавижу самого себя, и что, если бы кто-то хорошо двинул мне, я был бы искренне благодарен. Я говорил о невозможности бездействия, о необходимости «что-то сделать», и что самым разумным оказалось бы подтянуть проклятый французский язык. И хотя всё сказанное мной, было сказано шепотом, к концу выступления, я почувствовал как охрип.
— Учёба это не моё, — ответил мне Димон, после минутной паузы. — Не видишь — я слишком глуп для неё.
— Нельзя быть глупым, и при этом уметь так хорошо понимать других, — сказал я. — В конце концов, ты ничего не теряешь.
— Понимать других? — Он ухмыльнулся. — Вот увидишь, зло понимать не сложно, особенно, если оно внутри.
* * *
Впервые я серьезно задумался над тем, как люди по-разному смотрят на мир. Если одни пытаются представить его прекрасным милым, а грязь, хамство и обиды кажутся в нём исключениями, то другие видят его с точностью до наоборот. В их воображении, часто, даже доброта — лишь поддельное чувство, в углу которого стоит явная или неявная выгода. Эти люди призирают слова «эмпатия» и «альтруизм», так как они точно уверены в их отсутствии.
Чем больше я задумался об этом, тем менее ясными казались мне мотивы Димона. Зачем он согласился потакать хотелкам? Занялся уроками французского? Считал ли он меня человеком, совершающим добро? Или в его глазах я был всего лишь человеком достижения собственных целей. А что думал я?
Я желал обрести ещё раз то чувство пьянящей абсолютной свободы, которое впервые появилось в день, после урока французского. Значит, Димон был прав. Здесь не было никакой доброты или альтруизма. Или может быть я сам начал смотреть на мир его глазами? Разве я не мечтал завести друга, чтобы можно было вот так бесцеремонно высказать в слух мысли, которые боишься подумать наедине? Но что-то мне подсказывало, что для дружбы требовалось большее. Нечто такое, чего не было ни у меня, ни у него.
Пытаясь научить кого-то кроме себя, я впервые задумался о многих вещах. Если что-то не поддаётся, кто виноват? То, что я брал способностями, Димон замечательно побеждал фанатичным усердием. Мне становилось завидно — так я не умел. Заключалась ли основная проблема в отсутствии склонностей? Нет! И постепенно до меня дошло, что самый главный враг человека — страх. Я понял это, помогая Димону по математике. Когда он правильно развязал пример, я похвалил его, а он — огорчился. Не может быть! Он даже не верил в то, что способен решить нечто самостоятельно, а когда сделал это, посчитал случившееся превратностью судьбы. Мне пришлось запастись терпением. Перейдя к самым простым примерам, мы капля за каплей выбивали страх несостоятельности, страх «неудачи», и страх «неполноценности».
Не прошло и недели, как я ощутил себя эмоционально выжатым, потерявшим всякое желание продолжать. Всё казалось глупым, затраченные усилия — бессмысленными. Я бы безусловно как-нибудь соскочил с этой тропинки, если бы Димон не перенял инициативу. Кажется, маленькие победы над французским и математикой сделали своё дело, и почти каждый вечер, я зависал в его комнате, а не у себя дома. Эти походы очень не нравились моей маме, и крайне положительно воспринимались матерью Димона. Мне казалось, что она как-то даже переменила своё отношение к сыну, внеся немного теплоты. Правда, была ли эта теплота сердечной — я не знал.
* * *
Близился конец четверти, проходили контрольные. Димон получил по французскому кислую тройку, и кажется относился безразлично. Учительница больше не смела называть его копейкой, и в классе воцарился худой мир. Только мне не имелось. Попросив у Димона контрольную, я внимательно сравнил её со своей, и высказал ему всё, что думаю по поводу справедливости данной оценки. Димон пожав плечами, спросил меня: «Есть ли разница между тройкой и четвёркой». «Есть!» — ответил я.
Честно говоря, я находился в «ударе». После явных успехов, временная апатия покинула меня, а вслед за ней пришла новая волна вдохновения. Судьба подсказывала мне, что выбор оказался верным, и взошедшие посевы принесли правильные плоды. Стоило ли отступать? Я решил пойти дальше. И положив обе контрольные в портфель, самостоятельно отправился в кабинет директора.
Василий Иванович, математик, директор школы, был «знатный» мужик, любивший три вещи: женщин, шутки и выпивку. И хотя он заменял у нас предмет всего несколько раз, мы уже точно знали (как мы думали) их предназначение. Женщины (согласно философии Василия Ивановича) были призваны богом, чтобы сделать мир ярким, сложным и непостижимым. Поэтому всякий настоящий мужчина обязан был овладеть древним искусством «ХО-ХО», дабы не сойти с ума раньше наступления половой дисфункции. Но так как тяжёлая жизнь, изнурённая работа и плохая экология мешали мозгу войти в режим остроумия и пошлостей, настоящий мужчина всегда использовал ключевой компонент для модуляции юмора и иррационального поведения: алкоголь.
Значительным положительным моментом Василия Ивановича являлась его мужская простота и прямота (несмотря на округлые формы рельефа). Если Василий Иванович говорил «А», то это значило ровно «А», но никак не «B», и не «Я».
— Мальчик, вы куда? — Остановила меня секретарша, бросая взгляды любопытства с элементами превосходства. Наверное она пыталась вспомнить, попадал ли такой ученик в кабинет директора прежде, и не имея возможности вспомнить моё лицо, выражала удивлённую мину.
— Мне к директору.
Секретарша указала на стул, мельком проскользнула в кабинет директора, и так же мельком покинула его: «Заходи» — сообщила она мне.
Так как началась вторая половина дня, Василий Иванович был уже во «все оружии», и находился под слабым влиянием секретного снадобья. Он улыбнулся:
— Как тебя зовут?
— Ваня...
— Ваня, молодец, что зашёл. Какие проблемы? — Сказал он мне, по приятельски протягивая большую руку.
Я пытался излагать суть дела просто, складно. Василий Иванович уселся, собрал руки на столе, и моментально дал оценку:
— Ситуация ясна. Вызываем родителей в школу.
Я смутился:
— Не получится.
— Почему это не получится, — удивился директор.
— Потому, что у Димы, мама с проблемами.
— Вызывайте папу, бабушку, дедушку.
— А больше никого нет.
Василий Иванович активно почесал за ухом.
— Хорошо, Иван. Ступай, я побеседую с Лилей Васильевной, чтобы она обратила внимание на... этого ученика.
— А как же оценка? — удивился я?
— А что оценка? — Переспросил Василий Иванович, — ни у тебя ни у меня нет прав обсуждать оценку твоей учительницы. В конце концов я не учитель по французскому.
— Но, тут же всё понятно?! — пытаясь сопротивляется, и понижая голос, отвечал я.
Василий Иванович встал со стола, и подошёл ко мне ближе.
— Иван, ты вот умный парень. Что по твоему мне следует сделать?
Директор задал мне вопрос, на который у меня не было ответа. Заходя в его кабинет, я ожидал, что человек, сидящий в нём точно знает, что следует делать и когда.
— Ты считаешь, я должен уволить Лилию Васильевну?
Я отрицательно мотнул головой.
— Тогда я могу сделать ей выговор. Но что потом?
Я безмолвствовал.
— Видишь ли Иван. Между людьми важны отношения. Ты же не станешь нарушать дружбу, если твой друг поступил неправильно? Нужно найти «ком-про-мис». — Отчеканил он мне по слогам.
Когда я оказался во внутреннем дворе школы, я почувствовал, как что-то лопнуло. Ощущение нераспознанного обмана едкой струйкой отравило светлый взгляд на жизнь. И новые вопросы, доселе мирно спавшие в глубинах подсознания, бились и рвались наружу. Одна моя сторона кричала: «Разве ты не знал? Знал! Разве ты не глуп? Глуп!», а вторая возражала: «Нет не знал. Нет не глуп».
Уже на следующей неделе мои успехи по языкам начали снижаться, и мне казалось, что другие преподаватели так же начали смотреть на меня косо. Вскоре падением успеваемости заинтересовалась мать. Она устроила мне настоящий разгром, и всесторонний анализ. Сначала я держался, скрывая истинные мотивы, и не желая раскрывать карт, но после того, как в мой адрес посыпались обвинение в наркотиках, плохой компании и прожигании жизни, я не смог выдержать, и рассказал всё. Я кричал, бесился, но зря. Мать презрительно озернулась на меня, и сказала как бы сама себе: «Дурак дураком, надо было назвать Федей...».
Теперь уже с новой силой домашняя буря перекочевала в школьные коридоры. Здесь никому не показалось мало. Завуч бегала вокруг матери, директор вдруг неожиданно трезвел, вся школа ходила вверх дном. Моя мать умела поставить всё на свои места.
— Если мой сын бездельник и наркоман — это одно. Но если вы хотите его таким сделать по прихоти, всех на зону отправлю! Ироды дипломированные! — Громко декларировала она.
Василий Иванович глотал воздух, валидол, и другие редкие препараты, выпячивая спившиеся глаза, словно рыба выброшенная на берег. Школа опустела. Туман войны рассеялся, оголяя одинокие стены, пустынные коридоры, и безучастные кабинеты.
Успеваемость вернулась на круги своя. Странные взгляды выветрились. Едкие слова боялись покинуть разум. Но ничто из этого больше не радовало меня. Я оказался совершенно один. По дороге домой, я нагнал Димона, и зачем-то начал рассказывать ему про директора, про завуча, про учительницу французского, про то насколько они отвратительны, лживы и глупы. Димон молчал долгое время, а конце сказал: «Но ты же знал это всегда...».
Знал ли я. Знал ли я? Догадывался. Нет. На самом деле точно знал. Не нужно оканчивать 10 классов, чтобы понять, что люди, оставленные на произвол возьмут от жизни то, что она бросит им, словно собаке обглоданную кость. Конечно, мы все знали. Но знать мало. Нужно ещё принять. А я не хотел. И не верил, что кто-то из них принял. Знаю, что они живут и не верят в то, КАК живут. И в этом мы ничем не отличались друг от друга.
Я оторвал от земли камень, полный злобы и горечи, и прицелился в спину, удаляющемуся от меня, человеку. Он совсем не смотрел в мою сторону. Солнце на секунду ослепило глаза, я прикрыл лицо ладонью, а когда снова глянул вперёд, безвольно выронил камень.
* * *
Итак школьные хлопоты прошли мимо. Я застрял в аматорской музыкальной группе на ударных. Стукал днём и ночью. Учился хорошо толи по инерции, толи из-за последствий «разговора» матери. Совсем не заметил, как закончил 11й класс. Грянули выпускные экзамены, перемены, поступление, институт, другой город, общежитие новые знакомства...
Оставляя родной город, детство казалось покинуло меня. Было ни грустно, ни радостно, но странное ощущение пройденной черты висело над головой. Димон постепенно растаял из моей жизни, словно тяжёлый ночной кошмар растворился при свете дня. Какое-то время мы здоровались, потом учтиво кивали головой, а после перестали замечать друг друга. Состояние его матери окончательно ухудшилось, и к началу 11ого класса, Димона забрали в интернат. Он так и не смог доучится с нами. После этого я его не видел. Лишь ходили всякие слухи о том, как он обокрал собственную квартиру (хотя, что там было красть?), о том, что он связался с «компанией». В конце концов эти сплетни не имели для меня никакого значения.
По окончании учёбы, я устроился на первую «как бы работу» по продаже аудио компакт дисков, простояв на улице недели три. С первой честно заработанной зарплатой, довольный, отправился на родину, домой. Электричка весело «стригла» столбы и деревья, убегающие за спину, и со наполненный странным предвкушением чего-то хорошего, я весело смотрел по сторонам.
Казалось, ничего не изменилось. Я снова стоял на старом пешеходном переходе, видел гряду низкорослых канадских клёнов, обожжённые августовским солнцем липы, и пару старых полуголых каштанов. Мой родной дом мало изменился. Лишь несколько пластиковых окон, и бородавок-кондиционеров смотрели сверху. Старые деревянные двери парадного входа заменили железными с домофоном. В квартире никого не было.
Моя мать уехала к бабушке, и ощутив за многие годы себя в полном уединении, я был рад словно щенок. Не снимая джинсов я бухнулся на старый диван, и он ответил мне жалобным стоном. В внизу комода я отыскал старую красную сумочку, и всё так же обнаруживая в ней горку монет, которые окончательно потеряли всякую власть, я закинул туда первую получку. Посмотрев с удовлетворением на свой маленький скарб, я закрыл комод, и принялся задумчиво перебирать взглядом еле заметные трещинки на потолке.
Весь день я провалялся в квартире, не отходя от стрекочущего вентилятора, и не желая подставляться разгневанному дневному солнцу. Уже ближе к 6ти часам, обнаружив полное отсутствие хлеба, я решился на продуктовую вылазку, и небрежно надев шлёпанцы, поскакал по лестнице вниз. Горячий асфальт пронимал меня насквозь, и грел на расстоянии, словно печка. Я быстренько пробежался по улице к хлебному ларьку, чтобы захватить с собой свежий батон. На пути домой, сладко вгрызаясь в мягкую горбушку, словно оголодалый житель Поволжья, я заметил, как кто-то разглядывает меня.
Постепенно я понял кем был этот человек. В клетчатой рубашке, в шортах с боковыми карманами стоял бывший сосед. Неожиданное ощущение радости, приправленное лёгкой ностальгией заставило меня широко улыбаться. Я без страха приблизился к Димону, и продолжая разглядывать нового его, дружественно пожал руку.
Теперь я был выше на голову, длинноногий, худой, в то время, как Димон шире и мощнее. Почему-то вдруг захотелось вытянуть из себя, словно из шляпы белого кролика, весь нерастраченный запас человеческой доброты. Я пригласил его к себе на чай, спрашивал глупые вопросы, и вёл себя как «типичный взрослый».
Падающее за горизонт солнце заглядывало в окна, покрывая бордовым оттенком кухонный стол. Я приспособил стул гостю, налил воды в чайник и поставил на плиту. Тихое шипение газа изредка перебивалось шумом проезжающих за окном машин и уличной кутерьмой. Мы беззвучно сидели друг напротив друга. Банальные вопросы вежливости исчерпались, а тем для разговора не было.
— Ты здесь один? — Спросил он.
Я кивнул, сказал, что мать уехала к бабушке. Что недавно я приехал в город. Окончил институт, летом продавал диски, и даже успел получить первую зарплату. Мне захотелось рассказать что-то смешное и забавное, но порывшись в памяти, я вдруг не обнаружил ничего такого, что могло бы зацепить его. Нас объединяло лишь детство, забытое, закинутое на шифонер как старые лыжи, оставленное в пустых кабинетах школы, рассыпанное пылью по двору, и запечатлённое в надписях: «Здесь был...».
— И часто ты приглашаешь чужих людей?
Я одёрнулся. Громадная нелепая улыбка медленно сползла с моего озадаченного лица.
— А ведь чужие люди могут обокрасть, убить. Ты же смотришь телевизор?
В коридоре неожиданно запрыгал холодильник. Вечернее багровое солнце светило прямо ему в лицо, но он не морщился. Он сидел спокойно и внимательно всматривался в меня:
— Доставай деньги.
Я невольно показал рукой в сторону комода. Медленно встал, без лишних движений прошёл мимо гостя, и вернулся на кухню с красной старой маминой сумкой.
— Доставай.
Чайник засвистел. От неожиданности я выронил содержимое на пол. К отчаянным крикам пара добавились десятки звуков разбегающихся монет, а вместе с ними разлетались бумажные купюры, как новогоднее конфетти из детской хлопушки...
Крохотная кухня тонула в лучах сгорающего диска, заливая бело-голубые стены вишнёвым закатом. Я недвижно стоял, пытаясь избавиться от любых мыслей, ибо мысли пугали меня одна за другой. С одной стороны донимала собственная глупость. Димон был прав, никоим образом нельзя было впускать чужого человека в дом. Это казалось невыносимым, если знать, каким аккуратным и предусмотрительным обычно бывал я. Насколько внимательно относился к людям, и не позволял себе лишних своевольностей. С другой стороны позорно получить такую «сдачу» в ответ на наивное стремление удержать немного человеческого тепла. И наконец, было что-то ещё, в чём я не хотел признаваться самому себе....
Вздрогнул! Проснулся! Громко лязгнула о пол металлическая дверная цепочка, которая всегда находилась в красной сумке. Очнулся. Димон ровно смотрел на меня ледяным взглядом с примесью кротости и отторжения. Ход моих раздумий на миг потерялся из виду, но нечто другое опасное заняло их место. Медленными движениями я поднял упавшие купюры, зажав их в руке словно стальной нож, протянул «острым концом» в сторону гостя. Кухня пылала, а свисток жалобно хрипел, изредка плюясь раскалёнными каплями. Оружие было в моих руках, и значит единственным убийцей здесь мог оказаться лишь я.
* * *
Когда Димон ушёл, забирая остатки детских воспоминаний, я долго сидел, зажав острые деньги в руке. В конце концов мои пальцы ослабли, и бумага разлетелась вон. Я выключил чайник. Открыл окно. И включив на кухне свет, принялся медленно и неохотно собирать рассыпавшиеся монеты. Иногда я вдруг останавливался, и подолгу сидел на коленях, глазея на залетающих ночных мотыльков. Потом снова и снова продолжал работать. Пока наконец все монеты не были уложены в красную сумку. Не хватало одного — блестящей цепочки, которую я когда-то выменял на задачи по математике.
Что же самое обидное было во всём этом? Самое страшное, недопустимое, и разрывающее душу изнутри. Что-то было утеряно, упущено, утрачено навсегда. Ощущение леденеющей пустоты. Была ли это упущенная цепочка..., утерянные возможности..., или утраченные близкие? Или же этим утраченным был я, именно тот Я, что являлся частью окружения, которое всегда было частью меня самого.
июль 2015