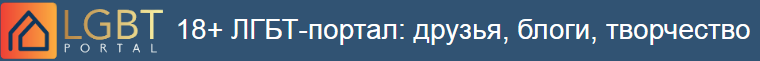Железнодорожная линия лежала вдоль моря, и я бы без конца смотрел в окно, и бесконечно слушал бы бой колёс, если бы не ощущение тошноты. Силы воли хватило на несколько остановок, и мы сошли на «Мальграт Де Мар». Почти пустынный древний город, с домами из камня и окнами из стекла, с иллюзорными миниатюрными дорогами. Такое я видел впервые, и впервые ощутил чувство, что называют здесь «Сау-дади», а на моей родине: «Нацкашии».
Железнодорожная линия лежала вдоль моря, и я бы без конца смотрел в окно, и бесконечно слушал бы бой колёс, если бы не ощущение тошноты. Силы воли хватило на несколько остановок, и мы сошли на «Мальграт Де Мар». Почти пустынный древний город, с домами из камня и окнами из стекла, с иллюзорными миниатюрными дорогами. Такое я видел впервые, и впервые ощутил чувство, что называют здесь «Сау-дади», а на моей родине: «Нацкашии».
Конечно же я уже читал про синдром «потери дома», который часто испытывали эмигранты, но до сих пор думал о себе как о человеке нового поколения, а оказалось — нет. Оказалось, пролетев через пол земли, а потом проехав ещё, в незнакомом месте, я вдруг почувствовал то, что даже в детстве было не всегда.
Там, далеко, где слышен Тихий Океан, где в шкафу пылится старый квинтепал, самым любимым местом в доме, или даже местом силы, было большое окно, которое выходило на маленький двор. Я садился на подоконник, закидывал ноги, и воображал, что еду в электричке. Колёса мелодично стучат подо мной, а за окном проносятся станции, столбы, холмы, старые обветшалые дома, с неизвестными калитками, тропинками, с загадочными дверьми, за которыми кто-то когда-то жил. Кто-то настоящий. Я воображаю, что идут к ним, вхожу, брожу по запылённым комнатам, перебираю старые вещи, которые рассыпаются в руках и чувствую, как медленно и верно превращаюсь в что-то значимое.
Я считываю следы будней, стёртые временем, вдыхаю чужие желания, разбросанные в сломанных вещах, в высохших деревьях видится цветущий сад, лопаты и ручной труд. Я подхожу к ним погладить стволы, доказательство былого величия. Они — как следы на песке, исчезающие в новом витке волны, только медленно. Или, наоборот, это мы для них как цветы, приходящие и угасающие так быстро, почти незаметно. Под корой сотен колец они даже не помнят нас.
Как же так случилось, что ощущение дома таилось не там, где шумел великий океан, и не там, где были люди одной крови, и не там, куда я приехал, а здесь — в городе из прошлого. Как случилось, что чувство волшебного покоя, когда все вещи на своих местах есть там, где меня не было?
Если бы я жил в прошлом, когда люди ненавидели и любили, когда верили в силу крови, в братство, устраивали войны, и ставили слово честь и убийство на одну строку, я был бы лучше других. И вовсе не потому, что перечисленное не свойственно мне. Напротив. Когда бы отрицательная удача благоволила и власть упала с небес как мана, как знать, сколько миллионов или миллиардов я бы мог уничтожить. Насколько отточенной и страшной могла бы быть моя злоба. Скольких бы мог ненавидеть и истребить без угрызений совести. Но я был бы лучше из-за другого. Я хотя бы понимал, что — чудовище…. Когда они всю свою жизнь проведут в «обаятельном» позорном неведении наигранной святости. Человек — самое опасное животное не потому, что получает удовольствие от власти, и не потому, что не догадывается о сути, а потому что тратит все усилия, чтобы думать о себе хорошо…. Точно так же, как опасен влюблённый в хрупкий лес маленький уголёк, который то и дело мечтает о том, чтобы обнять и согреть.
* * *
Давид капался в облачном браслете, прокладывая дорогу к кладбищу деревьев. Ему тоже нравилось таинственное убранство прошлого, и мы потратили почти час слоняясь по пустынным улицам. Он тоже любил загадочные артефакты прошлого. Вот где мы нашли с ним единство, а вовсе не там, где я его искал: в учёбе, взглядах, опыте. Во всём остальном мы были бесконечно чужими, но здесь…. Достаточно одного сходства, чтобы терпеть другого. А возможно он даже более чем я любил все эти старые домики, улицы, и… конечно же, любил совсем иначе. И всё же этой общности было достаточно, чтобы смотреть на человека как на такого, кто тебе хотя бы в чём-то понятен.
А люди тут ещё жили. В одном из переулков нас встретила девочка девяти лет и спросила не хотим ли мы посетить дом Антонио, на что Давид заметил, что никакого дома Антонио здесь быть не может. Девочка уточнила, что речь идёт совсем про другого Антонио, череп которого все ещё торчит на сухой ветке мёртвого дерева. «Тот самый, кто писал про Апокалипсис через триста дней?» – поинтересовался я, на что мне сказали, что всё это враки «куэнтакуэнтос». «Куэнтакуэнтос» – повторил я вслух, и несколько раз про себя, чтобы лучше запомнить новое слово. Так местные жители называли легендариев, людей, которые рассказывали истории. Девочка сказала, что их особенно много на кладбище деревьев, и, если мы не хотим встретиться с ними, нам стоит поспешить до вечера. Давид сказал, что он как раз хотел бы посетить кладбище деревьев, но я поинтересовался, не можем ли мы сперва посмотреть дом Антонио. Человек, который никогда не спорил, потому что в его жизни никогда не было ничего ужасного, согласился.
Дом Антонио оказался куда интереснее, чем я мог вообразить. Тут была масса вещей, о предназначении которых не догадаться. Были материальные книги из бумаги, сшитые нитками, старые, на разных языках, в том числе мёртвых, тех, что исчезли в период глобализации, были вещи бытового обихода непонятного предназначения. Странные металлические булавки, с острыми наконечниками, какая-то штука из двух пластин и пружины, конечно же много генераторов для книг, куда можно было продевать листы бумаги, а потом читать вместе.
Не только каждая вещь рассказывала историю, от которой звенело в ушах, но и серая тишина самой комнаты говорила со мной. Фотокарточка Антонио висела прямо в прихожей, недалеко от любопытного крючка с головой льва, в пасти которого болтались «штуки с ушками и зубками». На фото Антонио выглядел худым, немного усталым с длинными волосами, с вплетёнными штуками, похожими на верёвки. Волосы свисали словно пакли, обрамляя от природы мрачное лицо, украшенное следами улыбки. Но самое важное находилось прямо за ним – зелёный роскошный лес, от чего у меня по спине пошли мурашки. «Здесь он ещё выглядит счастливым» – сказала девочка. «А что случилось?» И она показала на другое фото, большое, в рамке. Здесь он стоял в одиночестве на фоне погибших деревьев и смотрел в даль. От этого сделалось больно.
В следующей комнате, сразу за дверью слева висел энтомологический блок с надписью: «помни, они сделают это с тобой». Под стеклом красовались Парустницы, Голубянки и Синяки, а также пару жуков, которых я мог видеть только в онлайн-энциклопедиях. Но тут они были словно живые. Я схватил себя за новое сильное ощущение. Внезапно захотелось унести их с собой, сложить в коробочку забрать, зачем не спрашивайте. Я невольно потянулся рукой к стеклу, чтобы убедиться, что это не иллюзия. Эти бабочки, жуки говорили мне, что были более живыми и настоящими, чем я сам. Или же… они были настолько же неживыми и ненастоящими, чем, когда я был бы живым и настоящим. Я спросил девочку, было ли хобби Антонио с бабочками постоянным, она ответила, что нет. И я ликовал, потому что догадался. О! Я про всё догадался. Я – исследователь. Я – большой глаз времени. Я всё увижу и всё пойму, все тайны этой комнаты откроются мне. Невидимая история наполняла меня словно пустой стакан до самых краёв, вот-вот и переполнит жизнью, настолько настоящей, что ни я, ни моя бабка, ни отец, ни Давид, никто, не мог бы и мечтать о такой.
Мощь воображения приобрела вес, стала могущественной настолько, чтобы преобразить историю комнаты в реальность точно так же, как принцы Амбера изменяли дорогу к истинному измерению. Кажется, я и сам растянулся, посмуглел и стал похожим на Антонио, видя его глазами зелёный лес, море, участвуя в уборке мусора, разговаривая с сотнями людей в первый и последний раз на разных языках. Я прельстился его безграничным чувством свободы и тупым чувством боли, мне захотелось остаться здесь, остаться в этой комнате, остаться в этом измерении, остаться таким как он, прожить его жизнь и уйти, уйти так, чтобы пусть хоть и за стеклом, но оставаться настоящим, существующим, существовавшим…
Я ощутил себя большой зелёной книгой, книгой про его жизнь, такой, где есть страницы, о которых не догадывается он сам. Она была здесь всегда и её страницы появлялись прямо передо мной. Я – Антонио.
Ощущение места и времени вернулись ко мне через несколько часов, когда я уже стоял у высохших ручьёв из корней. Они выглядывали из бескрайнего моря, моря песка, которое сталкивалось с другим морем, морем воды. И оба моря были мертвы. По внешнему виду, по изгибистым стволам, по отсутствию коры, я догадался, что это место и есть то самое кладбище деревьев. Оно пугало тем больше, чем лучше в памяти отзывалось фото Антонио на фоне живого леса. Возможно, догадался я, это и есть тот самый лес. Ведь люди склонны возвращаться туда, где им было хорошо. Если он любил эти деревья, то его череп тут не случайно, а как доказательство, что он принадлежит этому месту точно также, как и место принадлежит ему.
Я не видел сам череп, но по группе людей, стоящей у одинокой оливы, догадался, где искать. Туристы столпились вокруг дерева, и внимательно слушали. Сомнений не было, среди них был ещё один куэнтакуэнтос, заправляющий очередную историю про человека, который то ли писал на стенах про апокалипсис, то ли собирал бабочек, то ли бегал городские марафоны, то ли участвовал в группе защиты природы, то ли был местным активистом, то ли полиглотом, то ли ужасным анархистом, то ли всё это сочеталось в нём понемногу час от часу. Я успел узнать про конфликт с отцом, про переломанную ногу, которую никак не оперировали, про желание уехать на другую сторону земли, про странные отношения с деньгами. Каким-то странным образом час от часу Антонио оказывался в бедности и опасности. Ему помогали одни незнакомцы, а другие незнакомцы сулили беду. Он шёл к людям и бежал от них. Я подумал, что не смог бы жить как он, в постоянной опасности, скитаниях, палатках, разговорами с незнакомыми людьми. Для меня всё это было недостижимым актом храбрости, и его история играла туже роль, что и история Гекльберри Финна играет для современных людей: что-то между безумием и восхищением. Так жить нельзя, но было бы классно, если бы можно.
Давид проверил, что я реагирую на его внимание и не донимая лишними словами просто направился к толпе туристов. А у меня обнаружилось ещё одно сильное предчувствие. Сперва оно было крошечным, как котёнок, сидело где-то справа от края угла зрения. А потом начало шириться пока не заняло всё внимание, как жужжание в ухе, как назойливая мысль без текста. Невозможно было разгадать о чём оно. Я подтянул большой пояс, выполненный как имитация кожи, и направился мелкими шагами к морю воды, пытаясь не утонуть в море из песка. Что-то очень важное происходило сейчас. Обычно я мог уловить мысли или чувства, чтобы исследовать их, но сейчас, эти способности не работали. Возможно новое ощущение оказалось настолько огромным, необъятным, что в нём тонуло и вязло всё, точно так же, как и мои кеды тонули и вязли в горячем песке. Из-за волнения я начал покручивать кончик волос у виска, и уловил издалека взгляд Давида. Он следил. Внезапно чувство оформилось и неслышимый голос, похожий на ветер в ушах нашептал: «Ты никогда сюда не вернёшься». Я скептически скривил лицо. И не только сюда, но и в квартиру Антонио. И не только туда, но и вообще. Вообще? Что значит вообще? «Вообще — значит вообще». На языке появился металлический привкус абсолютного одиночества, погнутости, ностальгии и я снова как бы вернулся в тот день, когда первый раз узнал про существование смерти.
Я встал лицом к морю воды, а спиной к морю из песка и сказал: «Ты — фотоаппарат». И добавил: «Ты — видеокамера». «Снимай» — приказал я себе, и открыв глаза, начал жадно поглощать реальность, словно в последний раз. Схватил рукой памяти облака, обнял пальцами памяти море, начертил глубоко в душе корни погибших деревьев, постарался вырвать из времени своё лицо, тело и образ: оливковую рубашку, футболку и потёртые джинсы. Конечно, я вообразил себя выше, чем есть. А потом посмотрел на Давида и приказал памяти запомнить его навсегда…. Навсегда – значит, пока я не умру.
Всё, что смогу вспомнить через семьдесят лет — корни погибших деревьев. Сотрётся лицо Давида, сотрётся образ оливковой рубашки, поблекнут джинсы, смешаются здания Мальграт-де-Мар, даже море сотрётся в песок. Только мёртвые, похожие на руки людей, корни, будут всплывать в памяти день ото дня. А от образа Антонио останутся лишь длинные волосы и коробка с бабочками. «Они сделают это с тобой» — надпись, которую невозможно стереть. Вижу её каждый день.
А пока я буду верить в то, что властвую над памятью и могу приказывать ей. Буду продолжать верить, что я — фотоаппарат, я — камера, что могу противостоять времени, ну хотя бы до тех пор, пока существую. Позвольте побыть наивным, ведь и эта способность уйдёт.
* * *
Давид появился из-за спины и предложил посмотреть на череп. Он подгадал момент, когда туристы покинули достопримечательность, чтобы я чувствовал себя комфортней. Рядом с деревом осталась лишь женщина с большой шляпой. Она держала её в руках, так как сильный ветер с моря время от времени намеревался сорвать убор с головы, поэтому ей приходилось то и дело хватать шляпу двумя руками. «Не хотите услышать историю про того, чей череп обдувается ветрами?» — спросила она, а я скривился, — ещё одна куэнтакуэнтос. «Вам не нравятся легендарии?» — спросила она. Я решил, что не стану отвечать кому попало. «Странно, зачем же тогда вы сюда пришли?». Какая наглая особа, подумалось мне, позволяет указывать, что делать. Схватив грубость за короткий поводок, я мягко ответил, что мы здесь ради того, чтобы посмотреть на кладбище деревьев, и конечно ради Антонио. Наигранная вежливость разозлила меня ещё больше, ведь получалось, что я оправдывался перед незнакомым человеком. «Что странно, ведь Антонио один из первых легендариев, истинный куэнтакуэнтос» – сказала она и уловила удивление, а поэтому продолжала:
Иногда он говорил с сотнями людей за день, придумывая десятки историй просто по щелчку пальцев. Он не делал вид, что несёт истину, но ему верили, ведь выдумкой была лишь история. Легендарий — не тот, кто пытается ввести в заблуждение, а тот, кто выворачивает узор наизнанку, чтобы понять, каков рисунок снаружи.
Антонио был истинным куэнтакуэнтос? Это бы объяснило большое количество древних книг у него дома. Книг, которых я никогда не читал и не видел. Одна особенно запомнилась. На обложке были нарисованы двое мучителей животных. Один — худой с миской на голове и палкой в руке, сидел прямо на хребте бедного высокого животного, другой — толще, сидел на хребте низкого животного. Животные были похожими, но всё же разными. Со временем я узнаю, что на голове был шлем, а в руке не палка, а копьё, но их странное занятие останется загадкой навсегда. Невольно вспомнились слова контессы: «Контексты утеряны».
А что же на самом деле случилось? Жил какой-то парень, когда деревья ещё были зелёные, а небо становилось красным. Были у него мама и папа, но в разводе. Отношения отвратительные, особенно с отцом, мать он просто не видел. Обычная история, ничего особенного. Ну парень странный. Мечтал уехать на другую сторону земли, в Южную Америку. В те времена было не принято менять место жительства, так, как сейчас. Но зачем такому человеку, который скорее не любил людей, чем любил, нужно было говорить с ними? И не просто говорить, а придумывать и рассказывать?
Как эта маленькая история, история личная, наполненная тайнами и секретами, вдруг внезапно выросла, пронеслась сквозь время и превратилось в то, чего сам Антонио и вообразить не мог? Так ведь не бывает? Не может же быть, что люди, приходящие к дереву с черепом, сменяющие по несколько профессий, выбирающие себе родственников и детей, друзей и даже характер, живущие по непонятным правилам и с нелепыми целями хоть как-то связаны с Антонио? Не может быть так, чтобы кто-то из них, не знающий ни горя, ни проблем мог хоть что-то понять в его жизни.
За гладким черепом в сторону противоположную от моря воды, туда, где простиралось море песка, где холмы загораживали край неба, открывался вид на другое кладбище. «Перед вами развалены старого города, которые называются Касос дэ арена» — поучительный тоном произнесла куэнтакуэнтос у которой ветер пытался украсть шляпу. Всё, что мне было известно про «Касос дэ арена» — высокий уровень опасности и отсутствие всякого оборудования для туристов. Иначе говоря, Касос дэ арена был настоящим в отличие от собора La Sagrada Familia и других «памятников истории», в которых, конечно, ни осталось ни единого аутентичного кирпичика. Вот почему, посетив дом Антонио, и увидев то, то, что на самом деле соединяло прошлое и будущее, я ощутил дыхание вечности, которое буквально взяло меня за руку, как сделало это когда-то давно, когда мы вместе с Ней стояли и слушали музыку Тихого Океана. В тот миг вечность впервые прикоснулась ко мне, и оказалось, что мы не равны, что мы не родственники, и даже не знакомые. Что я никто.
* * *
Дэвид быстро сообразил, как добраться до «Касос дэ арена». И хотя он принял внутреннее решение, и скорее всего огорчился бы на отказ, он оставил решение за мной. Он оставил решение за человеком, который разрывался на две части. С одной стороны, я искренне хотел посмотреть на город из песка, тем более, навязчивый голос продолжал повторять «никогда не вернусь», а значит было бы глупо упускать шанс прикоснутся к прошлому, но, с другой стороны. С другой стороны, я не мог не читать статистику про убийства, ограбления, прочие ужасные штуки, чтобы игнорировать, что около «Касос дэ арена» за прошлый год случились целых три инцидента. Три инцидента за год — это очень много, а один из них был фатальным. Стоит ли мне быть трусом и в этот раз? Ведь, он обязательно послушается меня? Может быть его придётся уговаривать пять минут, но я ведь знаю, как правильно аргументировать? Знаю на какие точки нужно нажать, чтобы Давид отказался от затеи? Неужели я так сделаю?
Я ещё раз посмотрел в сторону моря, чтобы услышать предупреждающий голос: «Ты больше никогда не вернёшься». Голос все ещё звучал. Я ответил с полной ответственностью: «Замечательная идея», и тут же внезапно споткнулся об хитрый корень, похожий на песчаную змею.
Ох как он был доволен, ох как он был рад. Мы быстро наверстали несколько километров по разбитой дороге, частично засыпанной песком. Идти было трудно, но нам по силам. Прошёл почти час, и взгляду открылись первые мёртвые здания с выбитыми окнами. Ах как интересно было бы заглянуть туда, чтобы увидеть что-то необычное. Ноги привели нас к подножию, а дальше дорога уходила резко вверх. По бокам были раскиданы заброшенные дома, которые, как и наш рот были набиты песком. Песок показывался всюду из всех щелей, а я то и дело заглядывал в чёрные глазницы-окна, как если бы дома были черепами. Белые стены стали серыми, некогда терракотовые крыши из того, что здесь называлось «теха» выцвели так, что напоминали хвост старой лисицы или северной белки, чучело которой как раз стояло на полке в родном Фудзисава. Одна из рам прилегала прямо к дороге, и мы смогли увидеть стулья и остатки кухонного гарнитура. Злые люди повыдёргивали все ящички, сломали все дверцы, коме одной, что болталась на петле из последних сил. За ней на полках лежали горы девственного песка чистого без следов животных или людей. Никого. Никого давно не было. У меня захватило дух, ведь мы были единственными за долгие годы, кто ступал здесь.
* * *
 Я вспомнил бесконечные лабиринты улиц и одноэтажных домов, реку, зажатую в бетонных плитах и станцию, на которую как муравьи прибывали туристы. Место тысячи лиц. Я часто ходил туда, чтобы посмотреть на людей, ожидая увидеть кого-то, кто бы удивил меня. Железная дорога пролегала вдоль береговой линии, и я мечтал, когда выросту отправится из Югавара в Камакуру самостоятельно, чтобы все сорок минут смотреть на залив и воображать, что дорога никогда не закончится. Больше всего в детстве нравилось думать о том, что дорога никогда не закончится. Будет много людей в поезде, на станциях, в толпе. Я буду подходить к ним, узнавать разное, и снова возвращаться на свою линию, чтобы ехать из точки А в точку Б и смотреть на вечный залив. Всегда. Навсегда. Иногда в полудрёме снятся безлюдные улицы словно запутанные в паутине со столбами и проводами, улицы, заворачивающиеся друг в друга, пересекающие железнодорожные пути или идущие вдоль реки, скрытой за железными заборами. В этом сне мне кажется, будто я остаюсь один навсегда. Навечно. Всё живое оставило город, мир. Ещё свежи следы благовоний, звуки шагов висят в воздухе, а на фоне вкрадчиво мурлыкает шум воды, ещё стоят таблички, указывающие как добраться на остров с пляжами, ещё горит свет на станциях, стоят автоматы с напитками и продаются булочки с зелёным чаем. В этом мире всё хорошо, потому что в нём есть воспоминания о людях, но нет их самих.
Я вспомнил бесконечные лабиринты улиц и одноэтажных домов, реку, зажатую в бетонных плитах и станцию, на которую как муравьи прибывали туристы. Место тысячи лиц. Я часто ходил туда, чтобы посмотреть на людей, ожидая увидеть кого-то, кто бы удивил меня. Железная дорога пролегала вдоль береговой линии, и я мечтал, когда выросту отправится из Югавара в Камакуру самостоятельно, чтобы все сорок минут смотреть на залив и воображать, что дорога никогда не закончится. Больше всего в детстве нравилось думать о том, что дорога никогда не закончится. Будет много людей в поезде, на станциях, в толпе. Я буду подходить к ним, узнавать разное, и снова возвращаться на свою линию, чтобы ехать из точки А в точку Б и смотреть на вечный залив. Всегда. Навсегда. Иногда в полудрёме снятся безлюдные улицы словно запутанные в паутине со столбами и проводами, улицы, заворачивающиеся друг в друга, пересекающие железнодорожные пути или идущие вдоль реки, скрытой за железными заборами. В этом сне мне кажется, будто я остаюсь один навсегда. Навечно. Всё живое оставило город, мир. Ещё свежи следы благовоний, звуки шагов висят в воздухе, а на фоне вкрадчиво мурлыкает шум воды, ещё стоят таблички, указывающие как добраться на остров с пляжами, ещё горит свет на станциях, стоят автоматы с напитками и продаются булочки с зелёным чаем. В этом мире всё хорошо, потому что в нём есть воспоминания о людях, но нет их самих.
* * *
Подъём закончился и за красными крышами задрожало море. Мы остановились, чтобы увидеть с высоты посеребрённую слепящую сжигающую воображение синеву. Мёртвые деревья затерялись внизу, оставляя лишь напоминание о себе. Голос усилился, я мысленно ответил: если можно было бы остаться, то остался бы. Навсегда. Навечно.
Мы прошли сквозь бывшую площадь с рыночными павильонами, зашли в пару опустошённых магазинов, нашли церковь. Время убегало так же быстро, как и песок. Следовало возвращаться, но мы осознанно медлили, ведь это был тот самый мир, в котором всё хорошо, потому что здесь жили воспоминания о людях, но не было их самих. Почти не было. Если не считать нас. И если не считать тех, кто уже шёл за нашими спинами.
Я обернулся на звук, который пронёсся в сознании словно выстрел ужаса и напомнил о том, что «Касос дэ арена» не был одним из снов, а значит в нём не могло быть всё хорошо. Впереди из-за угла показалась рожа, за которой вылезло туловище почти такое же большое, как и туловище Давида. Пусть меня обвинят в лукизме, но я представил это, определённо человеческое лицо, скорее, как рожу барана излучающую опасность. Оно напомнило мне лица продавцов «радости и печали» у голубых трамваев, куда нередко приходили туристы. Я знал кто они такие, знал, что они делают, и всегда обходил десятой дорогой. Все эти долгие годы, все долгие годы я был самым осторожным ребёнком, который ни разу ни сломал ни руку, ни ногу, ни попал ни в какую сомнительную историю. Бабушка часто хвасталась перед знакомыми моим достижением, хотя лично никогда не хватила. Поэтому я хвалил сам себя. Ты такой осторожный, внимательный. Ты знаешь где ходить и в какое время. Ты не делаешь глупостей как они. Ты не пропадёшь. Столько лет ограничений и концентрации насмарку.
Я увидел ещё пару человек с другой стороны, которые медленно приближались к нам, и оценил степень опасности. Грабёж? Исключено. Нечего брать. Значит медленное и страшное насилие. Пытки. Возможно с извращениями и изнасилованием. Я вспомнил статьи, которые читал и посмотрел есть ли какой-то способ убить себя самостоятельно, ведь пытки – не для меня. Но рядом не было ни обрыва, ни острого столба, ни куска битого стекла, ничего такого, чем бы можно было бы разрезать яремную вену. А даже если бы и было, я бы это смог сделать?
Смысл голоса с моря воспринимался совсем иначе. Конечно, теперь я точно никогда сюда не вернусь, и вообще никуда больше не вернусь. Но как же глупо произошло! Какой идиотский конец истории для человека, который всю свою жизнь положил ради того, чтобы так не случалось. Я вообразил будущее, столь же ужасное, как и текущий миг. У дерева с черепом стояла всё та же куэнтакуэнтос и, не скрывая надменности улыбки, рассказывала.
«Наверху перед вами развалены старого города, которые называются Касос дэ арена. Вот уже как три года назад двое молодых туристов, Мичи Оосава и Давид Коэн решили полюбоваться красотой города из песка, где были жестоко убиты, а после изнасилованы или наоборот. Не поступайте как Мичи Оосава, ведь он конечно же про всё знал, но…». Я мысленно плюнул в её лицо и в тот же самый момент ветер грозно вырвал шляпку из рук и унёс в небеса. Когда усилием воли я прогнал её из воображения, человек с козлиным лицом достал складной нож. Давид посмотрел не столько на меня, сколько в глубину, и если бы мог прочитать меня, то прочитал бы лишь страшный стыд. Я бы мог броситься на нож, умереть как храбрый человек, тем самым смыв позор. Это выглядело бы благородно и в легендах люди бы вспоминали обо мне незлым тихим словом, не родился бы никто, кто смог бы написать обратное, рассказать правду. Можно сильно закричать, заглушить страх, закрыть глаза, и использовать тело как мешок для костей, чем оно и является. А потом всё закончится, возможно даже быстрее, чем могло бы.
В горле пересохло, захотелось достать флягу. Давид стоял рядом не сводил глаз с козлиной морды, которая беззастенчиво приближалась к нам. Он выждал, когда до морды оставалось несколько шагов, присел, сжался и бросился прямо на лезвие. Опять позор, это ведь было моей идеей, однако призрачный шанс на побег не стоило упускать. И я побежал в ту же сторону, что и Давид, обгоняя его и человека с козлиной головой. Я увидел, как лезвие полоснуло левую руку Давида, кровь хлынула на песок, но в тот же миг на землю упал не он, а человек с ножом. Облачный браслет на левой руке замигал ядовито-синим цветом, и тогда Давид протянул руку к небу в то время, как кровь заливала ему рубашку и лицо. Двое с противоположного края остановились и потеряли всякий интерес. Даже человек с козлиной мордой не спешил двигаться в нашу сторону. Конечно это мог быть обманный манёвр. Вот они соберутся, настигнут нас, или же нас уже поджидает расплата. Но ничего из этого не произошло.
Случилось самое банальное. Давид не умер и даже не упал в обморок. Напротив, он находился в приподнятом настроении и весь час постоянно травил шутки, в основном про случайные сексуальные связи с неудачным концом. И хотя мне не было смешно я невольно подхихикивал и не мог требовать его прекратить или заставить прекратить себя. Кровотечение устало от наших неумелых попыток наложить жгут и просто остановилось само по себе. А потом в небе блеснул солнечный зайчик и со стороны моря поднялся гидронавер – аппарат амфибия. Он поднял наши усталые тела в воздух, и на какое-то время я увидел бесконечное море прямо под собой, приказывая запомнить его навсегда. Ты – фотоаппарат. Ты – видеокамера. Говорил я себе. Ты – никогда не вернёшься – сказал голос в моей голове в последний раз.