Таблица лидеров
Популярный контент
Показан контент с высокой репутацией 03/13/17 в Записи блога
-
8 балловПо мотивам темы об отношении к манерности и женственности хочется написать о том, что наболело, накипело и тому подобное, нетолерантное) Сразу оговорюсь, что это абсолютное имхо, и что к манерным парням, в целом, у меня нет негатива, по крайней мере, от человека меня это не отпугнет, и по опыту, на личных качествах такая особенность никак не сказывается. Даже с чертами характера, в большинстве случаев, не связана. К манерным парням негатива нет, а вот к самому явлению есть. Итак, с начала. Восьмого марта меня дважды поздравили с праздником. Да, двое знакомых, независимо друг от друга. В шутку, разумеется - я даже посмеялся и поздравил в ответ "с нашим профессиональным". Но епрст... (дальше непечатно), сколько уже можно? Тут в теме говорили о том, что манерность не равнозначна женственности, но все же ноги у них растут из одного и того же места. Я не говорю о тех людях, которые действительно имеют гендерные расхождения или колебания, я об обычных парнях и мужчинах, которые никогда в себе и не находили "внутреннюю женщину". До того момента, пока им мягко не подскажут, что она-таки есть. Не в лоб, не словами подскажут, а живым и наглядным примером. Бывает, что какой-то паренек и сам, своей внутренней, состоящей из предрассудков и малой информированности, чуйкой "догадается", что дело нечисто, и он все-таки немного женщина, раз его привлекают мужчины. Непрошибаемая, хотя и не озвучиваемая логика. Если дотумкал сам, то это "врожденное") Но, независимо от того, как возникло, появляется или развивается манерность - подсознательное изображение якобы "женского" поведения. Манерность страшно заразна, она как вирус, передается воздушно-капельным путем. Во мне, например, в обычной жизни манерности нет (ну, я почти уверен), но стоит мне плотно пообщаться с носителями этого вируса - начинаю сам себя ловить на характерных интонациях, движениях, словах. А уж если под горячительным - то тем более) И вот нередко бывает так, что приезжает в большой город парнишка из маленького городка, где из всех геев он был знаком только с самим собой да с другом Васей, с которым "шалили по приколу". Приезжает он, и первое время манерности в нем не больше, чем в его ровесниках-натуралах. Но он говорит "вау!", вливается в обчество, и через пару лет уже исправно тянет гласные, и "делает ручкой", а если есть способности, то и хабалит по-черному. Заразился. Если он пассив, то это почти неизбежно. В последнее время эпидемия немного снижает масштабы, но все равно косит пачками. А причины этого явления кроются в веках. Общество, выстроившее строгую гендерную систему, веками и тысячелетиями имело одну догму - мужчина должен любить женщин, а женщина - мужчин. Если ты не женщина, но любишь мужчин, то... ты женщина)) А как же иначе? Ведь мужчин любят только женщины. Если ты актив - еще есть варианты, но если ты "принимающая сторона", то тут уже сомнений никаких. Тебе отказывают в мужественности и автоматически понижают в иерархии, потому что в традиционном патриархальном обществе женщина стоит на ступеньку ниже. А так как известно, что геи не прилетают с других планет, а плоть от плоти того же общества, в котором родились и живут, то убедить их самих в женской природе было не так уж трудно. Поверили, купились, смирились и приняли правила игры. Как путь спасения от лютого когнитивного диссонанса. И пошел гулять вирус, передаваемый из поколения в поколение. Уже и забылось, откуда все это взялось, уже и достоверно установили, что гомосексуальность не связана с трансгендерностью и транссексуальностью, уже мало кто осознанно считает себя женщиной, но все равно эти "подруги", "девки", разговоры на "-ла", специфические шуточки и плавность в движениях... Традиция-с.
-
7 балловСкоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А дела иногда такие творятся, что небо в алмазах, а ж*па в мыле. Жили мы, были в то прекрасное время в небольшом домике с удобствами на улице. Удобства - псевдотуалет типа «сортир» и душ «летний». И вот одним не мене прекрасным вечером решили мы побаловать себя мясом тушёным, да с цицматом, да с перчиком…. Мммм…. Стою я, значицца, за рабочим столом, такой весь из себя деловой, ножичком мясо разделываю, разговоры разглагольствую, ЦУ выдаю. Рома внемлет, ЦУ безропотно выполняет, ибо на кулинарном поприще он самоназначился в кухрабочии за неимением даже намёка на какой-либо талант в приготовлении пищи. Однажды, когда дежурным по кухне был он, на гарнир были сварены вареники. На логичный вопрос: «Какого х**?!» последовал не менее логичный ответ: «Они с картошкой!». Но вернёмся к нашим баранам, то бишь к нам с Ромкой. Я мясо разделываю, он чистит лук, чеснок, перец жгучий, стручковый. Перец, совершенный во всех отношениях, я на рынке отхватил по случаю. Стручки ровные, насыщенно-красного цвета, мякоть сочная, упругая…. Так и хочется впиться, откусить, посмаковать, чтобы горечь растеклась по языку, ошпарила нёбо, гортань, устроила пожар в желудке…. В общем, исходил я слюной на этот перчик и, улучив момент, стянул пару ломтиков с разделочной доски, тут же отправив их в рот. Мммм… блаженство, даже слезу прошибло. Ромка смеётся, милостиво разрешает слопать ещё. Наконец священнодействие над мясом закончено, ингредиенты загружены в вок, остаётся только ждать. Ждать просто так? Можно, конечно, но не интересно. Прибрав на кухне и оставив мясо томиться на медленном огне, мы отправились в «гостиную». По пути я стянул ещё один кусочек перчика, ждущего своего часа, чтобы присоединиться к мясу, врубили киношку и завалились на диван. Вскоре мракобесие, происходящее на экране, мне надоело, я выполз из объятий Ромы, сходил на кухню, проверил мясо. Вернувшись, полюбовался на него, развалившегося на диване и увлечённо пялящегося в экран. Хм…. Такое добро лежит просто так, без дела, пропадает, считай. Забравшись на диван, я удобно устроился у него между ног, стал кончиками пальцев поглаживать его по груди, спускаясь всё ниже. Добравшись до вожделенного, я стянул с него штаны, отбросил их в сторону, склонился и лизнул истекающий смазкой орган... Всё шло хорошо первые несколько секунд, но вдруг Рома дёрнулся, приподнялся на локтях и оттолкнул меня с такой силой, что я свалился с дивана. Он же подорвался и с воплями: «С*ка! Пи*дёныш мелкий, прибью на*рен!» как был с голым задом (разумеется, не только задом) скрылся в направление удобств. Придя в себя, я рванул за ним. Тот, шипя и ругаясь на чём свет стоит, поливал себя в душе. Я топтался рядом и вопрошал: «Что случилось-то, а?» - «Что случилось?! Бл*, придурок! Ты, с*ка, перца нажрался!» И тут мне взбледнулось, до меня наконец дошло, что стряслось… Остальные подробности того вечера рассказывать не буду: впечатления у меня, как и у Ромы остались неизгладимые. Расскажу лучше о следующем утре. С утра пораньше люблю я выползти на улицу, посидеть под первыми лучами восходящего светила, выкурить пару сигарет, помечтать и т.д. и т.п. Это утро не стало исключением, только на сей раз я предпочёл постоять, покурить, помечтать. На второй сигарете у общего с соседями забора появилась соседка тётя Рая. Тётушка весёлая, улыбчивая. Она цыкнула, привлекая моё внимание. Я подошёл к ней. - Доброе утро, тёть Рай. - Доброе. У вас случилось чего? - Нет, всё хорошо, тёть Рай. - Да? А чего тогда Ромка так орал и голяком по двору бегал? Я покраснел и смущённо пробормотал: - Так жарко же, проветривал он. – И не дожидаясь новых вопросов и не уточнив, что именно проветривал Рома, я сбежал в дом. Хочешь внести разнообразие в личную жизнь – добавь перчинку! И так вопрос к клубу: Правда или ложь?
-
4 баллаСегодня моё любимое "пешее утро". У меня достаточно времени, чтобы пройтись до работы пешком, через старый город, мимо лавчонок, с грохотом открывающих жалюзи, мимо жёлтых шершавых домов турецкой постройки, сложенных из нетёсаного известняка. У земли камень совсем выкрошился и лежит на тротуаре яичным порошком. "Тёплый дом", ночлежка на углу, и вовсе щербатая и пошла трещинами. Её обитатели сидят у входа на разнокалиберных стульях, курят и пьют кофе. - Хабиби, посиди с нами! Это Моти. Жители ночлежки меняются, но Моти по-прежнему здесь. Он вроде старшего по общежитию, и эта ушедшая в землю ночлежка – его единственный дом. - Некогда, Моти, работа! - Беги, но помни, в третий раз – мороженое! - Ты бредишь, Моти? - У нас говорят: если парень и девушка случайно встретились три раза, он должен угостить её мороженым! - А ты случайно сидишь тут каждый день? - А ты ходи другой дорогой! - Моти, у тебя нет мороженого. У тебя даже лишнего стула нет. - Для тебя всё будет, хабиби. Это наш ритуал, маленький спектакль, в котором потравленный нищетой и наркотиками Моти – всё ещё ничего себе мужик. Он сидит у входа в свой дом и пьёт кофе. Он флиртует с красавицей с летящими волосами, в раздуваемой ветром юбке. А ночлежка, треснутый стул, бумажный стаканчик и я – это просто реквизит, театральная условность. Я не в обиде, в этой пьеске мне досталась выигрышная роль, и я улыбаюсь. Моти не протягивает мне руки на прощанье, не ожидая, что я её приму. *** Месяц назад сын позвонил за полночь и разбудил меня. Я держала телефон на отлёте. Из трубки оглушительно брякала музыка "мизрахит" - арабско-ивритская попса - и был слышен гул голосов, который Эли пытался перекричать. Потом я услышала гортанный шёпот, словно ночной дух что-то шептал Эли на ухо, мой слабый арабский спас меня от понимания, что именно. - Халас (хватит)! - раздражённо ответил Эли кому-то, - Халас! Прекрати! - и в трубку, - мам, погоди минутку, я выйду. Шум в трубке немного утих. - Мам, можно я дам твой номер телефона одному парню. У его матери какие-то проблемы с домом, очень надо помочь. - Что за парень? - Друг. - Пусть они с матерью просто придут ко мне на приём. - Он не сможет с ней прийти. - Хорошо, пусть сама придёт и скажет, что ты…друг её сына. - Она ничего о нём не скажет. Кое-что начало проясняться. - Ладно, дай ему мой служебный телефон. Как его зовут? - Мухаммед. Мухаммед эль-Cана. - Дружба народов, значит… *** В приёмной наш охранник Нисим развлекает чернявую девчушку лет пяти, хлопая самого себя по бокам ручным металлоискателем. Приборчик и девочка пищат на одной ноте. Её мама сидит тут же – ноги спрятаны под стулом, руки зажаты между колен. Это она, Нур эль-Cана, мать Мухаммеда. Нур тоже прошлась пешком сегодня утром по дороге сюда – километра три от деревни-стойбища до трассы, по каменистой грунтовке, через прохладную весеннюю пустыню. Дочурка всё время скакала вокруг неё, убегала вперёд, совсем не просилась на руки. И Мухаммед, бывало, убегал в пустыню, бродил в одиночестве по вади – высохшим руслам ручьёв, а потом и вовсе стал уезжать на попутках в город, пропадать по нескольку дней. Нур не понимала зачем, не хотела, не должна была понимать. - Привет, подружки! – говорю я, - Нур, пошли ко мне в кабинет. Нур вскидывается легко, как маленькая танцовщица. На ней джинсы и толстовка, капюшон надет поверх хиджаба. Из платка глядит молодое подвижное личико, Нур улыбается, крошечные родинки на лбу съезжаются к переносице, курносый носик смешно морщится. Она похожа на хорошенькую египетскую мумию, и глядя на неё, я понимаю, в какую породу пошёл тот красивый смуглый мальчик, который хрипло шептал на ухо моему сыну. Тот, которого нельзя упоминать. Коридор узковат, и мы идём гуськом: я, а за мной две тонкорукие красотки. От обеих немного пахнет костром. - Ты принесла документы? Нур вынимает из кармана куртки свёрнутые бумажки, потрёпанные и пожелтевшие. Бог знает, где они хранились в её временном жилище, том самом, что мы и собираемся спасать. Спасать её единственный дом, которого на самом деле нет. Сейчас я знаю историю Нур наизусть. Шесть лет назад она и весь её клан жили в большом бедуинском посёлке, нищем и грязном, но там даже была торговая улица, где тоже гремели жалюзи лавчонок, пахло жареным мясом и специями, где бродили без дела местные подростки, и ветер носил между лабазов полиэтиленовые пакеты. Там был дом свекрови и свёкра, грязновато-белый, на столбах, с плоской крышей, где можно было сидеть в тенёчке под тентом из чёрного джута и пить кофе. За домом – кривоватая пристройка из голых блоков, там и обитала Нур со всем своим выводком. Тогда детей было трое или четверо. Муж Нур все дни напролёт проводил у своей старшей жены Шахразад, толстой и горластой тётки, которая меля языком и покрикивая, умело удерживала его возле себя. Но иногда по ночам он возникал в пристройке у Нур, слетал из-под стрехи, как святой дух, обернувшийся голубем, так что дети продолжали рождаться. Когда их было уже шестеро, на той самой пыльной торговой улице подросток из клана эль-Сана, имени которого уже никто не помнит, пырнул ножом паренька из клана Абу Каф, запустив ржавое зубастое колесо кровной мести. Люди стали умирать, но шейхи решили, что не бывать "сульхе", примирению, между благородными эль-Сана, потомками настоящих кочевников, и презренными крестьянами "феллахами" Абу Каф, и всему клану пришлось бросить свои дома и переехать. Им дали землю в пустыне на двух холмах, и там из деревяшек, тряпок и кровельного железа они и построили свои жилища, декорации будущих домов, как бы на время, а на самом деле навсегда. Беда в том, что землю надо было узаконить, заплатив пошлину, но деньги, вырученные за старые дома, быстро ушли на свадьбы, рамаданы и поминки, улетучились, как песок с пустынным ветром хамсин. Эль-Сана грозило выселение. Жестяной сарайчик Нур могли разрушить, хотя она и так спала с детьми во дворе на матрасиках, под кособоким навесом, куда ещё проще было залетать её мужу-голубю. Теперь детей стало девять. *** Я печатаю. Дочурке Нур скучно, она выгибается, ложась плечами к матери на колени, и что-то лепечет по-арабски. - Она говорит, что ты совсем не смотришь на клавиши, - переводит Нур. - Ты тоже так научишься, когда вырастешь, - я протягиваю малышке чистый листок из принтера и карандаш - пусть пока порисует. Карандаш берёт Нур, осторожно, кончиками пальцев. - Я тоже могла учиться, - вдруг говорит она, - меня даже брали в местный колледж на художественный. Я удивлённо таращусь на карандаш в её руке. - Я люблю рисовать, особенно карикатуры. Мне остаётся только потупиться. Нур тоже опускает глаза. - Поблагодари от меня своего сына, – говорит она своим коленям. Внезапно меня осеняет: - Хочешь посмотреть на него? – спрашиваю, поколебавшись минуту, - он как раз выложил фотографии в фейсбук сегодня утром. Я кладу перед Нур телефон. Эли снял селфи на плоской крыше, на фоне каких-то психоделических полотнищ. А позади попала в кадр ещё одна смуглая фигурка. - Красивый, - говорю я. - Красивый, - повторяет Нур одними губами, - только похудел. Она ещё мгновение смотрит на экран, а потом быстро переворачивает телефон рубашкой вверх. Солнце бликует на его серебристой поверхности. Сейчас позднее утро. Эли, должно быть, на лекциях. А Мухаммад работает в своей слесарке в яффской промзоне, безобразном скопище ангаров из кровельного железа, небрежно разгороженных. Они чем-то похожи на его жестяную деревеньку на двух холмах, куда он больше никогда не сможет вернуться. Два года назад Мухаммаду было семнадцать. В поисках того, что просили его тело и душа, он забирался всё дальше от своих, ставших чужими, пока не очутился в душном и тесном тель-авивском квартале, сплошь покрытом граффити, где обитали беженцы из Африки. Теперь его единственным домом была большая, темноватая и шумная квартира - вписка “неправильных парней из-за черты". Это сто лет не знавшее ремонта жилище сразу напомнило Мухаммаду старый дом бабки и деда, с грудой матрасов, сваленных в углу и плоской крышей, затянутой от солнца психоделическими тряпками. Все его соседи были беглые палестинцы, гонимые тем же голодом души и тела и тем же страхом его обнаружить. И Мухаммад, обладатель настоящего синего удостоверения личности, чувствовал себя среди них наследным принцем, вернувшимся из изгнания, своим на пыльной каменистой грунтовке - общей дороге всех изгоев. И в клубе, куда его за руку отвёл Салим, самый старший из них, с висячей серьгой в ухе - Мухаммад тоже хотел такую - он говорил парням из северного Тель-Авива, что он палестинский студент, которого преследуют из-за его ориентации. Эти белокожие из Рамат-Авива всё равно не смогли бы отличить палестинца от бедуина, а он всё время умело вворачивал мудрёные словечки, которых от них же и нахватался. Это казалось ему куда романтичней, чем рассказ о его сородичах, копошащихся, как блохи, на двух раскалённых холмах в их жестяном аду. *** Я сканирую документы Нур, слегка разгладив их руками. Теперь мои руки тоже немного пахнут дымом. У нас общий запах. Остаётся только отправить сообщение по электронной почте и ждать. Нур с дочкой что-то чиркают на листке, соприкасаясь головами. Нур сняла толстовку и осталась в длинной футболке, которая слегка натягивается спереди. -Нур, ты беременна!? Она зыркает на меня одним глазом и пожимает одним плечом. -Ты почему молчала? -А что? -А то! Кто же тебя, беременную, выселит, тембелит!? -Не ругайся! - ворчит Нур. Я быстро набираю ещё одно сообщение. Через двадцать минут приходит ответ из земельного управления, самый лучший, на который я и не надеялась. Нур позволено выплачивать пошлину частями, по две тысячи в месяц, это почти всё её пособие, но Нур не одна, с ней прибудут духи пустыни и её клан, и главное - она сохранит свой воображаемый дом. В дверях Нур оборачивается в последний раз. - Шукран, спасибо, - произносит она, поглаживая дочурку по волосам. Обе одинаково смотрят на меня исподлобья. - Аален, не за что. Береги себя и ребёнка. - Это будет мальчик, - говорит Нур, кладя вторую руку на живот, - Мухаммад. Остаётся только рисунок на столе. На нём уходит вдаль каменистый просёлок, огибая глухую каменную стену. За ней едва виднеется плоская крыша дома. Этой стеной Нур надёжно укрыла от всех невзгод тот дом, который она носит в своём сердце. Дороге, крадущей сыновей, туда не проникнуть. Там дети играют во дворе, проветриваются на верёвках покрывала, и марлевая сетка колышется в окне, а у калитки, вместо того, чтобы лаять, встречает гостей, виляя хвостом, лохматый пёс, очень похожий на охранника Нисима. *** В сумерках я снова иду пешком. Солнце прячется за створки ворот центральной автостанции, покрывая глянцевые бока автобусов психоделическими разводами. В одном из автобусов Нур прислонила голову к стеклу. Одной рукой она обнимает дочку, а другой достаёт телефон. “2 тысячи в месяц”, - пишет она короткое сообщение. В ожидании ответа Нур бездумно глядит за окно, где, неотличимые, сменяют друг друга голые холмы. Только с одного, побрякивая, ползёт пёстрое стадо коз, которых гонит хворостиной голенастая девчонка в платке, словно подросшая дочка Нур или сама Нур, спрятанная внутри хиджаба вечная девочка. Автобус останавливается на перекрёстке. Отсюда ведёт много дорог, но дорога к стойбищу Нур самая безыскусная. Телефон тихонько дзинькает - пришёл ответ. Одно слово: “договорились”, и смайлик. Несколько мгновений Нур просто поглаживает большим пальцем улыбающееся личико, а потом тщательно удаляет оба сообщения. *** По пути я снова миную ночлежку. Моти сидит на прежнем месте, рядом с ним свободный стул. - Садись, хабиби, - Моти стряхивает пыль с сиденья, - Был долгий день. Ты устала. И на это раз я сажусь. Меня ждёт мой дом, полный забот. Но с тех пор, как мой мальчик оставил его, он словно медленно превращается в декорацию самого себя. Моти протягивает мне стаканчик, и я наконец дотрагиваюсь до его руки. Она шершавая и тёплая, стаканчик её согрел. Вокруг полно бутафории, но Моти самый настоящий и он угощает меня кофе: -Пей, хабиби. Сегодня редкий вечер - воздух прямо поёт! А какое небо! Небо над всеми нами действительно чудесное...
-
2 балла
-
1 баллОсень обозначилась первым днём на календарях, но мы ещё не обратили должного внимания на её величество забвение. Двести десять сидел рядом со мной, отковыривая засахарившийся мёд от блюдца. Я смотрел на падающее солнце у холма в форме улитки, и ждал, когда его диск коснётся земли. — Видишь, — говорил я, — мы просидели тут два часа, ожидая заката. Но, когда светило встретится с полем пройдёт всего минут пять или десять, и оно исчезнет. Это несправедливо. — Почему? — Спросил Двести десять. — Когда раскалённый диск касается земли, солнце самое красивое, самое большое и самое живое. Я хотел бы, смотреть на него всегда. Но почему-то всё великолепное скоротечно. Двести десять посмотрел на меня, оторвавшись от мёда, и я, улыбнувшись, повторил с сожалением: — Это несправедливо. * * * Жизнь в нашем поселении текла скучно, если только я не выкидывал какие-нибудь шалости. Однако, последнее время муза пренеприятным образом избегала меня, сводя досуг к созерцанию восходов и закатов. У холма в форме улитки я посадил красные цветы. Каждое утро, словно играясь в заботу и любовь, поливал их. Это смешило и расстраивало меня. В конечном счёте, мы продолжали доедать бочку с мёдом: сладкое было, но я мечтал о другом. Солнечные дни проходили дождём обыденности, но стоило ветру принести облака, как мы расстилали ковёр посреди поля, и фантазировали, глядя на плывущих гигантов. Я показывал на облако, а Двести десять должен был угадать, что я вообразил. Потом мы менялись ролями. Обычно мимо проходили животные. Иногда сказочные драконы. Очень редко можно было увидеть цветы. И уже совсем редко — чувства. Кажется в облаках нельзя распознать чувств. Чувства требуют близости, а пышные гиганты летят высоко, тысячи километров, большие и недоступные. Но иногда, мне встречались облако-радость, облако-смущение, облако-вопрос и облако-неопределённость. Однажды мимо проплывали несколько пышных грив, похожих на человеческие лица, а за ними расстилалась небольшая тучка в форме прямоугольника. Двести десять обратил на них внимание первым и сказал, что они похожи на нас. Я сперва скептично улыбнулся, но когда поднял голову, не смог отвести взгляд. Меня объял ужас и восторг, и сложно было выяснить какое ощущение превалировало. * * * Как-то, будучи у девятьсот тридцать второго, любившего путешествовать, я ненароком соврал, якобы ко мне приходил неизвестный странник, который рассказывал о далёких странах и невиданных животных. Девятьсот тридцать второй внимательно слушал мою речь, удивлялся и охал. Я старался, воображая плывущие облака, плетя из них удивительные истории, и неожиданные повороты. Когда он спросил меня, куда делся странник, я уклончиво ответил, что странник исчез в неизвестном направлении. Я бы так и забыл о том вечере, если бы девятьсот тридцать второй не разболтал мою выдумку соседям. Утром в моё скромное жилище на холме явился девятьсот сороковой, и спросил — не приходил ли ко мне ещё раз тот странник. Я не смог удержаться и ответил: «Да». Я сказал, что ночью он снова приходил и показывал редкие вещи, которых у нас никто никогда не видел. Девятьсот сороковой любил вещи. Он собирал трубки для курения и свистки. Поэтому я выдумал в своём рассказе, словно у странника было много редких трубок и свистков ручной работы. Мой гость летал от восторга. Он увлечённо слушал меня, и расчувствовавшись, просил странника посетить его дом. Восемьсот девяносто разводил рыбок. Он услышал о страннике, который видал экзотические моря. А шестьсот восьмой слышал о страннике, который садит цветы. Каждый из них увидел человека, который бесконечно приближался к ним, и вместе с тем, был загадочным и недоступным. Они все полюбили его, хотя никто никогда не видел. От изгоя я вдруг превратился в желанного гостя, и теперь каждый звал меня. Моя жизнь превратилась в сплошные визиты по расписанию. Утром ждали сотые, днём двухсотые, а вечером — развлекал семисотых. Я ткал пышную ложь из облаков, превращая пар в сладкую вату. Лишь седьмой, который недолюбливал меня, не верил ни одному слову. Но в этот раз даже его скептицизм не мог устоять перед желанием большинства. Я всё думал, что же рассказать седьмому, чтобы он изменил мнение, но не нашёл ни одного увлечения, ни одной вещи, которую он любил по настоящему. У меня не было ни единой зацепки. * * * Я не заметил, как лёгкое желание увидеть странника превратилось в навязчивую идею. Они жаждали встретить его всё больше, и каждый день спрашивали о нём. Я знал, что на этот раз Седьмой не упустит возможности изгнать меня навсегда, и в грусти забился на своём холме, забыв о рассветах с закатами и Двести десять с бочонком мёда. На утро снова назначили общее собрание, и я снова сидел без сна, изредка выходя на крыльцо посмотреть на чистое звездное небо. На нём не осталось ни одного облака, словно я потратил их всех. Перед самым рассветом ко мне постучались. И когда я спросил, кто это, мне ответили: «Странник». Я открыл дверь, и проводил его внутрь, напоил чаем. Спросил, не знает ли он интересных историй. Но он ответил нет. Я спросил его, не был ли он в сказочных странах — он ответил нет. Я спросил его: видел ли он экзотических животных, но он ответил: «Нет». Я узнавал: есть ли у него редкие вещи, — но он покачал головой. Он рассказал мне свою историю, и она была крайне обычной. Не оказалось ничего такого, чем бы он мог бы заменить «моего странника», но я просил его прийти на утреннее собрание. Странник согласился, так как ему было интересно увидеть жителей поселения. * * * Седьмой как обычно готовился к выступлению, мысленно повторяя свою эпическую речь относительно моего изгнания. Но, когда увидел меня, идущего с незнакомцем, онемел и поспешил затеряться в толпе. Все смотрели на странника, как на абсолютное чудо в совершенной тишине. Когда он остановился посреди площади, шестой вежливо спросил его, кто он такой. — Я странник, — ответил незнакомец, и толпа ахнула в такт. Девятьсот тридцать второй спросил: — Правда, ты бывал во многих сказочных странах с невиданными животными? — Правда, — отвечал ему странник. — Правда, ты доставал редкие вещи, которые никто никогда не видел? — Спросил его Девятьсот сороковой. — Правда, — отвечал странник. Я растворился в небытие. Никто не замечал моего существования, так как взоры были направлены на другого. Каждый рассказывал страннику известную лишь ему частичку лжи, сплетённую из облаков моих грёз, и каждый раз странник повторял «Правда». Люди радовались и плакали, они хлопали его дружески по плечу, кто-то крепко обнимал, каждый хотел выразить ему собственное признание и любовь, накопившуюся в них. Так они ощутили счастье. * * * Я возвращался домой, желая успеть на очередной заход солнца. Небо до сих пор оставалось чистым, и я пытался рассмотреть хоть одну захудалую тучку за горизонтом. Осень наконец коснулась рукой прохлады. Обнимая самого себя, я спрятал внутренне тепло от невежливого дуновения судьбы. Усевшись в поле, прижав колени к себе, без участия наблюдал за краснеющим солнцем, не смея взглянуть на него прямо, ожидая, когда диск коснётся земли. Вдруг на фоне пылающего горизонта показалась знакомая фигура, в которой узнавался странник. Пересекая бесконечно поле, я бежал навстречу заходящему солнцу, и когда его пылающий край коснулся благоухающих трав, догнал странника. Он повернулся ко мне взглядом любопытного ребёнка. Солнце сплюснулось, превратившись из совершенного круга в улыбку, словно желало побыстрее протиснутся между горизонтом и пустотой неба. — Зачем ты отвечал «Правда»? — Спросил я его. Он нежно улыбнулся мне, и подойдя ближе, прошептал на ушко, словно солнце могло подслушать нас: — Я полюбил твоего странника. * * * Мы любим солнце не за лучезарность. Не за жару иль зимний безразличья хлад. Но любим поля аромат, Игру ветров, дождей ненастность. Мы любим радужный закат. Мы любим утреннюю радость, Как избавление от сонных чар. Мы влюблены в движенья силу, Что приютила жизни бег, Пусть в каждом скрытое светило, Продвинет мир ещё на век.
Важная информация
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашими {условиями}.
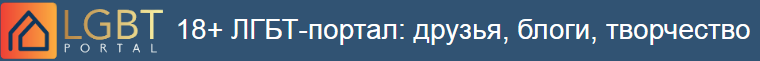
.thumb.jpg.2b781c5a069b45a063a7315f65d32952.jpg)


.thumb.jpeg.a991f163bc85dea3214743867a9c3714.jpeg)
